Творчество
Глава 14. Красная корзинка
I
– Позволите воспользоваться вашим бассейном, мистер?
Илзе, в зеленых шортиках и таком же топике. Босоногая, без косметики, с припухшим со сна лицом, с завязанными в конский хвост волосами. Так она завязывала их в одиннадцать лет и, если бы не округлости грудей, могла бы сойти за одиннадцатилетнюю.
– Будьте любезны, – ответил я.
Она села рядом со мной на выложенный кафелем бортик. Мы были ровно посередине длинной стороны бассейна. Мой зад накрывал цифру «5», ее – слово «Футов».
– Ты что-то рано, – добавил я, хотя меня ее появление не удивило. Илли всегда была жаворонком.
– Я тревожилась за тебя. Особенно после того, как мистер Уайрман позвонил Джеку и сообщил, что эта милая старушка умерла. Джек сказал нам. Мы были еще на обеде.
– Знаю.
– Мне так жаль. – Она положила голову мне на плечо. – И в такой знаменательный для тебя вечер.
Я обнял ее.
– В общем, я поспала пару часов. Потом встала, потому что уже рассвело. А выглянув в окно, увидела, что у бассейна сидит мой отец, один-одинешенек.
– Не мог больше спать. Надеюсь только, что не разбудил твою ма… – Я замолчал, заметив, как округлились глаза Илзе. – Давай обойдемся без фантазий, мисс Булочка. Утешение, ничего больше.
Утешением дело не ограничилось, но я не собирался обсуждать подробности с дочерью. Если уж на то пошло – вообще ни с кем не собирался.
Она ссутулилась, потом распрямила спину, склонила голову набок, посмотрела на меня, в уголках рта проклюнулась улыбка.
– Если ты лелеешь надежду, это твое право, – продолжил я. – Могу только посоветовать проявлять сдержанность. Я всегда буду заботиться о ней, но иногда люди уходят так далеко вперед, что пути назад уже нет. Думаю… я уверен, что у нас тот самый случай.
Она вновь смотрела на ровную поверхность воды в бассейне, улыбка в уголках рта умерла. Не могу сказать, что обрадовался, но, возможно, это был наилучший вариант.
– Что ж, ладно.
Теперь я мог обсудить с ней другие вопросы. Не испытывал особого восторга от такой перспективы, но что поделаешь, я оставался ее отцом, а она во многом по-прежнему была ребенком. То есть как бы я ни скорбел в то утро об Элизабет Истлейк, какой бы сложной ни была ситуация, в которой я оказался, родительские обязанности никто с меня не снимал.
– Должен кое-что у тебя спросить, Илли.
– Слушаю.
– Ты без кольца потому, что не хочешь, чтобы твоя мать увидела его и взорвалась… тут я тебя очень хорошо понимаю… или потому, что у вас с Карсоном…
– Я вернула ему кольцо, – ровным, бесстрастным голосом ответила она. Потом засмеялась, и у меня как гора с плеч упала. – Но я отослала его через «Ю-пи-эс» и застраховала.
– Значит… все кончено?
– Ну… никогда не говори никогда. – Она побултыхала ногами в воде. – Карсон не хочет разрыва, так он говорит. Я тоже не уверена, что хочу. По крайней мере не увидевшись с ним. Телефон и электронная почта для такого разговора не годятся. Плюс я хочу увидеть, тянет ли меня к нему, и если да, то как сильно. – Она искоса взглянула на меня, с легкой озабоченностью.
– Тебе это не кажется непристойным?
– Нет, милая.
– Могу я задать тебе вопрос?
– Конечно.
– Сколько вторых шансов ты давал маме?
Я улыбнулся.
– За годы нашей семейной жизни? Пару сотен.
– А она тебе?
– Примерно столько же.
– Ты когда-нибудь… – Она запнулась. – Я не могу это спрашивать.
Я смотрел на бассейн, чувствуя, что мои щеки заливает румянец стеснительности, столь характерной представителям среднего класса.
– Раз уж мы ведем эту дискуссию в шесть утра, когда здесь нет даже обслуги, и поскольку я вроде бы знаю, какая у тебя проблема с Карсоном Джонсом, ты можешь спросить. Ответ – нет. Ни разу. Но, если уж быть предельно честным, должен сказать, что причина тому – стечение обстоятельств, а не твердокаменная праведность. Случалось, что я подходил к этому очень близко, однажды избежал этого лишь благодаря удаче, судьбе или вмешательству провидения. Я не думаю, что наша семейная жизнь оборвалась бы, если бы… этот инцидент произошел – ведь партнеру можно нанести и более жестокий удар, но не зря это называют изменой. Один промах можно оправдать правом человека на ошибку. Два промаха можно списать на человеческую слабость. Больше… – Я пожал плечами.
– Он говорит, что это случилось только раз. – Голос Илзе стих до шепота, ноги уже едва двигались в воде. – Он сказал, что она приставала к нему. И в конце концов… ты понимаешь.
Конечно. Такое случается сплошь и рядом. По крайней мере в книгах и фильмах. Может, иногда и в реальной жизни. Пусть это и звучит как самоутешительная ложь, но всякое бывает.
– Девушка, с которой он поет?
Илзе кивнула.
– Бриджит Андрейссон.
– У нее же плохо пахло изо рта.
Кислая улыбка.
– Илзе, помнится, не так давно ты говорила мне, что он должен сделать выбор.
Долгая пауза.
– Это так сложно, – наконец услышал я.
Конечно, сложно. Спросите любого пьяницу в баре, которого жена выгнала из дома. Я молчал.
– Он сказал ей, что больше не хочет ее видеть. И дуэта больше не будет. Я это точно знаю, потому что просматривала последние рецензии в Интернете. – Илзе чуть покраснела, хотя я совершенно ее не винил. Я и сам бы заглянул в Интернет. – Когда мистер Фредерик, директор турне, пригрозил отравить его домой, Карсон сказал, пусть отправляет, если хочет, но он больше не будет петь с этой набожной блондинистой сукой.
– Так и сказал?
Илзе ослепительно улыбнулась.
– Папуля, он же баптист. Я перевожу. В любом случае Карсон стоял на своем, и мистер Фредерик сдался. Для меня это очко в его пользу.
«Да, – подумал я, – но он все равно изменщик, который называет себя Смайликом».
Я взял Илзе за руку.
– И каков твой следующий шаг?
Она вздохнула. Пусть с этим конским хвостиком выглядела она на одиннадцать лет, вздох разом ее состарил до сорока.
– Не знаю. Понятия не имею.
– Тогда позволь мне дать тебе совет. Разрешаешь?
– Хорошо.
– Какое-то время держись от него подальше. – Едва мои слова сорвались с губ, я вдруг понял, что именно этого хочу всем сердцем. Но не только этого. Когда я думал о картинах «Девочка и корабль» (особенно о девочке в весельной лодке), мне хотелось сказать Илзе: «Не разговаривай с незнакомцами, не включай фен при наполненной ванне, бегай трусцой только по дорожке на территории кампуса. Никогда не пересекай Роджер-Уильямс-парк в сумерках».
Она вопросительно смотрела на меня, и мне удалось собраться с мыслями, не отвлечься от главного.
– Сразу возвращайся в колледж…
– Я хотела поговорить об этом…
Я кивнул, но сжал ее руку. Показывая, что еще не все сказал.
– Закончи семестр. Получи оценки. Позволь Карсону закончить турне. Попытайся объективно оценить ситуацию и лишь потом встречайся с ним… понимаешь, что я говорю?
– Да… – Она понимала, но по голосу не чувствовалось, что я ее убедил.
– Когда вы встретитесь, пусть это будет нейтральная территория. Я не хочу тебя смущать, но мы по-прежнему вдвоем, рядом никого нет, поэтому я тебе это скажу. Постель нейтральной территорией не является.
Она смотрела на погруженные в воду ступни. Я протянул руку. Повернул ее лицом к себе.
– Когда есть нерешенные проблемы, постель – поле боя. Я не стал бы даже обедать с человеком, не уяснив для себя, в каких мы отношениях. Встретьтесь… ну, не знаю… в Бостоне. Посидите на скамейке в парке и все обговорите. Постарайся все прояснить для себя и убедись, что у него тоже не осталось вопросов. Потом пообедайте. Сходите на игру «Ред сокс». Или прыгните в постель, если ты сочтешь это правильным. Я не хочу думать о твоей половой жизни, но это не значит, что, по моему разумению, ты не должна ее иметь.
Она рассмеялась, и мне сразу полегчало. На смех подошел полусонный официант, спросил, не хотим ли мы кофе. Мы хотели. Когда он отбыл, Илзе вновь повернулась ко мне.
– Хорошо, папуля. Твоя позиция мне понятна. Я все равно собиралась сказать, что во второй половине дня возвращаюсь в колледж. В конце недели у меня зачет по антропологии, и мы организовали небольшую учебную группу. Называется «Клуб выживших». – Она озабоченно всмотрелась в меня. – Это ничего? Я знаю, ты рассчитывал на пару дней, но теперь, после случившегося с твоей хорошей знакомой…
– Не волнуйся, милая. Все нормально. – Я чмокнул ее в кончик носа, надеясь, что с такой близи она не увидит как я доволен: и тем, что она побывала на выставке, и тем, что часть этого утра мы провели вместе, но больше всего меня радовал тот факт, что до захода солнца она будет в тысяче миль к северу от Дьюма-Ки. При условии, что сможет купить билет на самолет. – А как насчет Карсона?
Она молчала с минуту, болтая ногами в воде. Потом встала, взяла меня за руку, помогая подняться.
– Думаю, ты прав. Я скажу ему, что если он всерьез воспринимает наши отношения, то должен взять паузу до Четвертого июля.
Теперь, когда она приняла решение, ее глаза вновь засияли.
– У меня будет время до конца семестра плюс месяц летних каникул. Он завершит турне, отыграет концерт в Коровьем дворце и на досуге сумеет подумать, действительно ли порвал с Блондинкой, как сам сейчас считает. Тебя это устроит, дорогой отец?
– Более чем.
– А вот и наш кофе. Следующий вопрос: как долго нам придется ждать завтрак?
II
На позднем завтраке Уайрман не появился, но зарезервировал ресторанный зал в «Ритце» с восьми до десяти часов. Я, понятное дело, сидел во главе стола. Собралось больше двух десятков человек, в основном друзья и родственники из Миннесоты. Такие события запоминаются надолго, участники говорят о них десятилетиями, отчасти потому, что видят так много знакомых лиц в экзотической обстановке, отчасти из-за высокого эмоционального накала.
С одной стороны, не вызывал сомнений успех парня-из-нашего-города. Они почувствовали это еще на выставке, и их ощущения подтвердили утренние газеты. Рецензии в «Сарасота геральд трибьюн» и «Венис гондольер» были доброжелательными, хотя и короткими. Статья Мэри Айр в «Тампа трибьюн», наоборот, занимала чуть ли не целую страницу и была очень лиричной. Большую часть Мэри наверняка написала заранее. Она назвала меня «великим новым американским талантом». Моя мама (она всегда любила поворчать), сказала бы: «Добавь еще десятицентовик – и можешь с чистой совестью подтереть жопу». Разумеется, с тех пор прошло сорок лет, и тогда купить на десятицентовик можно было куда больше, чем сейчас.
С другой стороны, все помнили об Элизабет. Некрологи еще не появились, но в «Тампа трибьюн» на одной странице с рецензией Мэри Айр разместили в черной рамке крошечную, из двух абзацев, заметку под заголовком: «С ИЗВЕСТНОЙ ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЕЙ ИСКУССТВ СЛУЧИЛСЯ УДАР НА ВЫСТАВКЕ ФРИМАНТЛА». Далее перечислялись только факты: у Элизабет Истлейк, многие годы игравшей важную роль в культурной жизни Сарасоты и проживавшей на Дьюма-Ки, вскоре после прибытия в галерею «Скотто» начался судорожный припадок, и старушку отвезли в Мемориальную больницу. К моменту подписания номера в печать сведений о ее состоянии в редакции не было.
Миннесотские гости знали, что в ночь моего триумфа умер дорогой мне человек. Поэтому за добродушными шутками и взрывами смеха обычно следовали взгляды в мою сторону: вдруг я осуждаю чрезмерное веселье. К половине десятого съеденная яичница свинцовой чушкой лежала в моем желудке, и у меня разболелась голова – впервые чуть ли не за месяц.
Извинившись, я поднялся наверх. В моем номере, пусть я там и не ночевал, оставалась сумка, которую я взял с собой, уезжая из «Розовой громады». В мешочке с бритвенными принадлежностями лежали несколько пакетиков с зомигом, лекарством от мигрени. Зомиг не приносил мне пользы, если голова уже раскалывалась, но обычно помогал, когда головная боль только набирала обороты. Я высыпал в рот содержимое пакетика, запил колой из бара-холодильника и уже направился к двери, когда увидел мигающую лампочку на автоответчике. Решил не обращать внимания, но тут до меня дошло, что сообщение мог оставить Уайрман.
Как выяснилось, сообщений набралось полдюжины. Первые четыре оказались поздравительными, и они падали на мою больную голову, как градины на жестяную крышу. Поэтому, когда зазвучало сообщение Джимми (четвертым по счету), я нажал нужную кнопку, чтобы поскорее перейти к следующему. При таком самочувствии хотелось обойтись без восхвалений.
Пятое сообщение действительно оставил Джером Уайрман. Голос звучал устало и ошарашенно: «Эдгар, я знаю, что ты выделил два дня на семью и друзей, и мне ужасно не хочется просить тебя об этом, но не могли бы мы встретиться в твоем доме во второй половине дня? Нам нужно поговорить. Действительно нужно. Джек ночевал здесь, в «Эль Паласио» – не хотел оставлять меня одного. Он потрясающе хороший парень. Мы встали рано, отправились на поиски красной корзинки, о которой она говорила, и… что ж, мы ее нашли. Лучше поздно, чем никогда, верно? Она хотела, чтобы корзинка досталась тебе, поэтому Джек повез ее в «Розовую громаду». А там обнаружил, что дверь не заперта, и, послушай, Эдгар… в доме кто-то побывал».
Тишина на линии, но я слышал его дыхание. А потом:
«Джек сильно испугался, но и ты готовься к шоку, мучачо. Хотя, возможно, ты уже представляешь себе…»
Послышался звуковой сигнал, потом пошло шестое сообщение. От того же Уайрмана, только теперь разозленного – и голос у него стал более привычным.
«И какой гад придумал ограничивать сообщения по времени! Chinche pedorra[163]! Эдгар, мы с Джеком едем в «Эббот-Уэкслер». Это… – пауза, – …похоронное бюро, которое она выбрала. Я вернусь к часу. Ты обязательно должен подождать нас, прежде чем входить в дом. Там ничего не украдено, ничего не разгромлено, но я хочу быть с тобой, когда ты заглянешь в эту корзинку и когда увидишь, что оставлено в студии наверху. Мне не нравится напускать туман загадочности, но Уайрман не будет наговаривать такое на пленку, которую может прослушать, кто угодно. И вот что еще. Позвонил один из ее адвокатов. Оставил сообщение на автоответчике. Мы с Джеком в это время были на гребаном чердаке. Он сказал, что я – единственный наследник. – Пауза. – La loteria. – Пауза. – Я получаю все. – Пауза. – Что б я сдох».
Сообщение закончилось.
III
Я нажал кнопку с нулем, чтобы соединиться с телефонисткой отеля. После короткого ожидания получил от нее номер «Похоронного бюро Эббота-Уэкслера». Позвонил. Ответивший робот предложил на удивление широкий спектр похоронных услуг («Если вам нужен выставочный зал гробов, нажмите цифру пять…»). Я ждал (в наши дни возможность поговорить с реальным человеком всегда предоставляется последней – это награда для тех баранов, которые не владеют технологиями двадцать первого века) и думал о сообщении Уайрмана. Незапертая дверь? Неужели? «Розовая громада» мне не принадлежала, но я с юных лет привык к тому, что к чужой собственности следует относиться с особым почтением. То есть практически не сомневался, что, уходя, запер дверь. И если внутри кто-то побывал, почему ее не взломали?
На мгновение я подумал о двух девочках в мокрых платьях (маленьких девочках с разложившимися лицами, которые говорили скрипучим голосом ракушек под домом) и, содрогнувшись, выпихнул этот образ из головы. Это лишь плод воображения, галлюцинация, вызванная перенапряжением. И даже если они не были галлюцинацией… призраки не отпирают двери, так? Они просто проходят сквозь них или просачиваются в помещение через щели в полу.
«…нажмите ноль, если вам нужна помощь оператора».
Господи, я едва избежал шанса прослушать эту записанную на пленку муть второй раз. Нажал на кнопку «0», в трубке зазвучала музыка (мелодия отдаленно напоминала «Пребудь со мной»[164]), после чего профессионально успокаивающий голос спросил, чем его обладатель может мне помочь. Я едва подавил очень сильное желание прокричать: «Моя рука! Ее так и не похоронили должным образом!» – и бросить трубку. Вместо этого, зажав плечом трубку возле уха и потирая лоб над правой бровью, спросил, ушел ли уже Джером Уайрман или нет.
– Позвольте спросить, кого из усопших он представляет?
Жуткий образ возник перед моим мысленным взором: безмолвный зал суда для покойников и Уайрман, говорящий: «Ваша честь, я протестую».
– Элизабет Истлейк, – ответил я.
– Да, конечно. – Голос потеплел, стал более человечным. – Он и его молодой друг только что отбыли… кажется, они собирались заняться некрологом мисс Истлейк. Возможно, у меня для вас есть сообщение. Подождете?
Я ждал. В трубке вновь звучала мелодия «Пребудь со мной». Похоронных дел мастер вернулся.
– Мистер Уайрман спрашивает, сможете ли вы встретиться с ним и… э… мистером Кэндури, около вашего дома на Дьюма-Ки в два часа пополудни. В записке указано: «Если приедете раньше, пожалуйста, подождите снаружи». Вы все поняли?
– Да. Вы не знаете, когда он вернется?
– Нет, об этом он ничего не сказал.
Я поблагодарил его и положил трубку. Уайрман редко брал с собой мобильник, да и номера я не знал, но у Джека телефон всегда был при себе. Я нашел в бумажнике его номер, набрал. Вместо гудка механический голос сообщил мне, что абонент временно недоступен. Это означало, что Джек или не зарядил аккумулятор, или не оплатил счет. И оба варианта были равновероятными.
«Джек сильно испугался, но и ты готовься к шоку».
«Я хочу быть с тобой, когда ты заглянешь в эту корзинку».
Но я уже представлял себе, что будет в корзинке, и сомневался, что Уайрмана очень уж удивило ее содержимое.
Едва ли.
IV
Миннесотская мафия молча восседала за длинным столом в зале ресторана, и даже до того, как Пэм встала, я понял, что в мое отсутствие они не только говорили обо мне. Они провели совещание.
– Мы возвращаемся обратно, – объявила Пэм. – Во всяком случае, большинство из нас. Слоботники собираются заглянуть в «Диснейуолд», раз уж они здесь, Джеймисоны отправляются в Майами…
– И мы собираемся поехать с ними, папуля, – подала голос Мелинда. Она держала Рика за руку. – Оттуда мы вылетим в Орли, и билеты стоят дешевле, чем на тот рейс, который ты нам забронировал.
– Думаю, мы можем позволить себе такие расходы, – ответил я, пытаясь улыбнуться. Я ощущал странную смесь облегчения, разочарования и страха. Одновременно почувствовал, как обручи, стягивающие голову, разжались и начали падать вниз. Мигрень как рукой сняло. Возможно, благодарить следовало зомиг, но обычно препарат этот так быстро не действовал, даже если запивать его напитком с большим количество кофеина.
– Ваш друг Уайрман связывался с вами этим утром? – пророкотал Кеймен.
– Да, он оставил сообщение на автоответчике.
– И как он?
Что ж, это была длинная история.
– Справляется, занимается похоронами… и Джек ему помогает… но он потрясен.
– Поезжай и тоже помоги ему, – сказал Том Райли. – Это твоя работа на сегодня.
– Да, конечно, – поддержал его Боузи. – Ты тоже скорбишь, Эдгар. И тебе нет необходимости и дальше оставаться в роли хозяина, принимающего гостей.
– Я позвонила в аэропорт. – Пэм говорила так, словно я запротестовал, чего не было и в помине. – «Гольфстрим» к вылету готов. И консьерж уже помогает нам с отъездом. Как бы то ни было, утро в нашем распоряжении. Вопрос в том, чем нам заняться?
В результате мы провели утро в полном соответствии с намеченным мною планом: посетили Художественный музей Джона и Мэбл Ринглинг.
И я был в берете.
V
А потом я стоял в зале вылета «Долфин эвиэшн» и прощался со своими друзьями, целовался, обнимался, жал руки. Мелинда, Рик и Джеймисоны нас уже покинули.
Кэти Грин, королева лечебной физкультуры, поцеловала меня с присущей ей энергичностью.
– Заботься о себе, Эдгар. Я люблю твои картины, но гораздо больше горжусь тем, как ты двигаешься. Потрясающий прогресс. Хотела бы я показать тебя моей последней группе нытиков.
– Очень уж ты строгая, Кэти.
– Совсем и не строгая. – Она вытерла глаза. – По правде говоря, внутри я мягкая – настоящая размазня.
Потом надо мной навис Кеймен.
– Если вам понадобится помощь, незамедлительно связывайтесь со мной.
– Будет исполнено. Тотчас же напишу по известному мне электронному адресу.
Кеймен улыбнулся. Приятно, знаете ли, видеть улыбку Бога.
– Я не думаю, что вы уже пришли в норму, Эдгар. Могу только надеяться, что все у вас будет хорошо. Никто не заслуживает этого больше, чем вы.
Я его обнял. Одной рукой. И он меня – двумя.
К самолету я шел рядом с Пэм. Мы постояли у трапа, пока другие поднимались в салон. Она взялась за мою руку, внимательно посмотрела мне в глаза.
– Я собираюсь поцеловать тебя в щеку, Эдгар. Илли смотрит, и я не хочу, чтобы она неправильно все истолковала.
Поцеловала, потом добавила:
– Я тревожусь о тебе. Взгляд у тебя какой-то затравленный.
– Элизабет…
Она покачала головой.
– Он был таким и вчера вечером, до того, как она появилась в галерее. Даже когда тебя все радовало. Этот взгляд… Не знаю… В прошлом я видела его лишь однажды, в девяносто втором, когда казалось, что ты не сможешь погасить кредит и потеряешь свою компанию.
Двигатели выли, горячий ветер трепал ее волосы, превращая аккуратно уложенные локоны во что-то более молодое и естественное.
– Могу я кое о чем тебя спросить, Эдди?
– Конечно.
– Ты можешь рисовать где угодно? Или только здесь?
– Думаю, где угодно. Но в других местах и картины будут другими.
Она пристально смотрела на меня. Почти что с мольбой.
– Все равно перемена может пойти на пользу. Тебе нужно избавиться от этого взгляда. Я не говорю о возвращении в Миннесоту, нужно просто… уехать куда-нибудь еще. Ты об этом подумаешь?
– Да. – «Но лишь после того, как загляну в красную корзинку для пикника, – добавил про себя я. – И после того, как хотя бы раз побываю на южной оконечности Дьюмы». Я думал, что мне это удастся. Потому что плохо стало Илзе – не мне. Я-то отделался окрашенными красным воспоминаниями о несчастном случае. И фантомным зудом.
– Будь здоров, Эдгар. Я точно не знаю, каким ты стал, но прежнего Эдгара осталось достаточно много, чтобы любить тебя. – Она поднялась на цыпочки в белых сандалиях (несомненно, купленных специально для этой поездки) и вновь поцеловала меня в щетинистую щеку.
– Спасибо, – ответил я. – Спасибо за прошлую ночь.
– Благодарить незачем. Все было прекрасно.
Она пожала мне руку. Потом поднялась по трапу и скрылась в самолете.
VI
Я вновь оказался в зале вылета терминала «Дельты». На этот раз без Джека.
– Только ты и я, мисс Булочка. Такое ощущение, что мы засиделись дольше всех.
Тут я заметил, что она плачет, и обнял ее.
– Папуля, я так хочу остаться с тобой!
– Возвращайся в колледж, милая. Подготовься к зачету и сдай на отлично. Скоро мы с тобой увидимся.
Она отпрянула. Озабоченно посмотрела на меня.
– У тебя все будет хорошо?
– Да. И у тебя все должно быть хорошо.
– Я постараюсь. Постараюсь.
Я вновь обнял ее.
– Иди. Зарегистрируйся. Купи журналы. Посмотри Си-эн-эн. Счастливого тебе полета.
– Хорошо, папуля. Все было замечательно.
– Ты у меня замечательная.
Она от души чмокнула меня в губы (вероятно, компенсировала тот поцелуй, что придержала ее мать) и прошла через раздвижные двери. Один раз обернулась и помахала мне рукой – к тому времени став уже силуэтом за поляризованным стеклом. И как же я жалею, что не разглядел ее тогда получше – ведь я видел ее в последний раз.
VII
Из Художественного музея Ринглингов я позвонил в два места – в похоронное бюро и на автоответчик «Эль Паласио», а после оставил сообщение для Уайрмана: пообещал вернуться к трем часам и попросил встретить меня у моего дома. И еще попросил передать Джеку, что тот достаточно взрослый (раз уж имеет право голосовать и ходит на вечеринки с второкурсницами Флоридского университета), чтобы держать мобильник в рабочем состоянии.
Я вернулся на Дьюма-Ки около половины четвертого, но и автомобиль Джека, и коллекционный серебристый «бенц» Элизабет уже стояли на квадрате потрескавшегося бетона справа от «Розовой громады». Джек и Уайрман сидели на ступеньках и пили чай со льдом. Джек – в том же сером костюме, но уже с привычно растрепанными волосами и в футболке «Морских дьяволов» под пиджаком. Уайрман – в черных джинсах, белой рубашке с расстегнутым воротником и в сдвинутой на затылок бейсболке.
Я припарковался, вылез из автомобиля и потянулся, чтобы размять больную ногу. Они поднялись, подошли ко мне, ни один не улыбался.
– Все уехали, амиго? – спросил Уайрман.
– Все, кроме моей тети Джин и дяди Бена, – ответил я. – Они – бывалые халявщики, и возьмут все, что им пообещали.
Джек улыбнулся, но как-то невесело.
– Такие есть в каждой семье, – заметил он.
– Как ты? – спросил я Уайрмана.
– Если ты насчет Элизабет, то нормально. Хэдлок говорит, что, возможно, это наилучший вариант, и я готов признать его правоту. А вот ее решение оставить мне сто шестьдесят миллионов долларов деньгами, активами и собственностью… – Он покачал головой. – Это уже другое. Может, со временем мне удастся с этим свыкнуться, но сейчас…
– Сейчас что-то происходит.
– Si, senor. И очень странное.
– Что ты рассказал Джеку?
Уайрман замялся.
– Вот что я тебе скажу, амиго. Раз начав, трудно определить ту черту, перед которой следует остановиться.
– Он рассказал мне все, – вмешался Джек. – Во всяком случае, по его мнению. И о том, что вы сделали с его зрением, и о Кэнди Брауне. – Он помолчал. – И о двух девочках, которых вы видели.
– И что ты можешь сказать насчет Кэнди Брауна?
– Будь моя воля, я бы наградил вас медалью. А жители Сарасоты, вероятно, выделили бы вам персональную платформу во время парада в День памяти погибших в войнах. – Джек сунул руки в карманы. – Но если бы прошлой осенью вы сказали мне, что такое может случиться не только в кинофильмах, но и в реальной жизни, я бы рассмеялся.
– А на прошлой неделе? – спросил я.
Джек задумался. С той стороны «Розовой громады» волны мерно накатывали на берег. Под гостиной и спальней шептались ракушки.
– Нет, – наконец ответил Джек. – Вероятно, смеяться бы не стал. Я с самого начала понял, что вы какой-то особенный, Эдгар. Вы приехали сюда и… – Он сложил ладони, переплел пальцы. И я подумал, что он прав. Так оно и было. Как переплетенные пальцы обеих рук. И тот факт, что у меня была одна рука, не имел ровно никакого значения.
Во всяком случае, в данном конкретном случае.
– О чем ты говоришь, hermano[165]?
Джек пожал плечами.
– Эдгар и Дьюма. Дьюма и Эдгар. Они словно ждали друг друга. – На его лице читалось смущение, но в своих словах он определенно не сомневался.
Я махнул рукой в сторону двери.
– Тогда пошли.
– Сначала расскажи ему, как ты нашел корзинку, – попросил Уайрман Джека.
Тот пожал плечами.
– Потеть не пришлось; не заняло и двадцати минут. Она стояла на каком-то старом комоде в дальнем конце чердака. На нее падал свет из вентиляционной трубы. Словно она хотела, чтобы ее нашли. – Джек посмотрел на Уайрмана, который согласно кивнул. – Потом мы отнесли корзинку вниз и заглянули в нее. Она была чертовски тяжелая.
Слова Джека о тяжести корзинки заставили меня подумать о том, как Мельда, домоправительница, держит корзинку на семейном портрете: мышцы на руках напряглись. Вероятно, корзинка и тогда была тяжелой.
– Уайрман попросил отвезти корзинку сюда и оставить для вас, поскольку у меня был ключ… да только ключ мне не потребовался. Дверь была не заперта.
– То есть ты нашел ее распахнутой?
– Нет. Я вставил ключ в скважину и повернул, а получилось – закрыл замок. Ну я удивился…
– Пошли. – Уайрман двинулся к двери. – Пора не только говорить, но и смотреть.
На деревянном полу прихожей я увидел многое из того, что обычно встречалось на берегу: песок, мелкие ракушки, пару стручков софоры, несколько пучков сухой меч-травы. А также следы. Отпечатки подошв кроссовок Джека. И другие, от одного вида которых по коже побежали мурашки. Я насчитал три цепочки следов. Одна – больших, две – маленьких. Маленькие следы определенно оставили дети. Вся троица обошлась без обуви.
– Вы видите, что они ведут наверх, становясь все менее заметными? – спросил Джек.
– Да. – Даже мне показалось, что мой голос долетел издалека.
– Я шел рядом, потому что не хотел их затереть, – продолжил Джек. – Если бы я знал все то, что рассказал мне Уайрман, пока мы ждали вас, не думаю, что я решился бы подняться по лестнице.
– Не стал бы тебя винить, – кивнул я.
– Но наверху никого не было. Только… вы сами все увидите. Смотрите. – Он подвел меня к лестнице. Девятая ступенька находилась на уровне глаз, свет падал на нее сбоку. Я увидел едва заметные детские следы, ведущие в обратном направлении.
– С этим мне все ясно. Дети поднялись в вашу студию, потом спустились вниз. Взрослый оставался у двери, вероятно, стоял на стреме… хотя, если произошло это глубокой ночью, едва ли стоило кого-то опасаться. Вы включали охранную сигнализацию?
– Нет. – Я не решался встретиться с ним взглядом. – Не могу запомнить код. Он записан на листочке, который лежит у меня в бумажнике, но каждый раз, когда я вхожу в дверь, начинается гонка: я должен набрать код, пока пикает этот гребаный звуковой сигнал…
– Все нормально. – Уайрман сжал мое плечо. – Эти грабители ничего не взяли. Напротив – оставили.
– Вы же не верите, что мертвые сестры мисс Истлейк вновь навестили вас? – спросил Джек.
– Если на то пошло, я считаю, что так оно и было. – Я подумал, что мой ответ прозвучал глупо под ярким светом второй половины апрельского дня, когда солнечные лучи обрушивались на Залив и отражались от него, но ошибся.
– В «Скуби-Ду» оказалось бы, что это проделки безумного библиотекаря, – заметил Джек. – Понимаете, чтоб вы испугались и покинули остров, а он смог бы сохранить сокровище для себя.
– У нас не мультфильм, – вздохнул я.
– Допустим, маленькие следы оставлены Тесси и Лаурой Истлейк. Тогда кому принадлежат большие? – спросил Уайрман.
Никто из нас не ответил.
– Пойдемте наверх, – предложил я. – Я хочу заглянуть в корзинку.
Мы поднялись по лестнице (избегая следов: не для того, чтобы их сохранить – просто не хотели на них наступать). Корзинка для пикника, которая выглядела точно так же, как и та, что я нарисовал ручкой, украденной в кабинете доктора Джина Хэдлока, стояла на ковре, но сперва мой взгляд упал на мольберт.
– Можете мне поверить, я удрал, едва это увидел, – признался Джек.
Я мог ему поверить, но желания ретироваться вниз не испытывал. Наоборот, меня тянуло к мольберту, совсем как железо – к магниту. На мольберте стоял чистый холст, и под покровом темноты (то ли когда умирала Элизабет, то ли когда я в последний раз занимался сексом с женой, то ли когда спал после секса рядом с ней) кто-то окунул палец в мою краску. Кто именно? Не знаю. В какую краску? Это очевидно – в красную. Буквы качались из стороны в сторону, поднимались и опускались относительно друг друга. Красные буквы. Обвиняющие. Они буквально кричали.
Где наша сестра
VIII
– Произведение искусства. – Я едва узнал собственный голос, вдруг ставший сухим и дребезжащим.
– Так это называется? – спросил Уайрман.
– Разумеется. – Буквы начали расплываться, и я вытер глаза. – Граффити. В «Скотто» пришли бы в восторг.
– Возможно, но меня это дерьмо пугает, – сказал Джек. – Я его ненавижу.
Я тоже ненавидел. Это была моя студия, черт побери, моя! Я заплатил за ее аренду! Я сдернул холст с мольберта, и в это мгновение возникло предчувствие, что он вспыхнет у меня в руках. Не вспыхнул. Да и не с чего – обычный холст, я сам его и натягивал. Я прислонил холст лицевой стороной к стене.
– Так лучше?
– В общем, да, – ответил Джек, и Уайрман кивнул. – Эдгар… если эти девочки побывали здесь… могут ли призраки рисовать на холсте?
– Если они могут двигать круги с буквами и цифрами на спиритической доске и писать на покрытом изморозью стекле, полагаю, им под силу и рисовать на холсте. – Я помолчал и с неохотой добавил: – Но я не могу представить себе призрака, открывающего мою входную дверь. Или ставящего холст на мольберт.
– То есть холста здесь не было?
– Уверен, что нет. Чистые холсты – на стойке в углу.
– А что за сестра? – поинтересовался Джек. – Кто та сестра, о которой они спрашивают?
– Должно быть, Элизабет, – ответил я. – Она единственная оставшаяся сестра.
– Чушь, – покачал головой Уайрман. – Если Тесси и Лаура попали в пользующийся популярностью во все времена загробный мир, проблем с поиском Элизабет у них не возникло бы: более пятидесяти пяти лет Элизабет прожила здесь, на Дьюма-Ки, а больше они и нигде не бывали.
– А как насчет других сестер Элизабет? – спросил я.
– Мария и Ханна умерли, – ответил Уайрман. – Ханна – в семидесятых, в штате Нью-Йорк, по-моему, в Оссининге, а Мария – в начале восьмидесятых, где-то на западе. Обе выходили замуж, Мария даже дважды. Я узнал об этом от Криса Шэннингтона, не от мисс Истлейк. Она иногда говорила об отце, но о сестрах не упоминала ни разу. Она оборвала все связи с семьей после того, как вместе с Джоном вернулась сюда в тысяча девятьсот пятьдесят первом.
«где наша сестра?»
– А Адриана? Что известно о ней?
Уайрман пожал плечами.
– Quien sabe? История сокрыла ее в своих глубинах. Шэннингтон думает, что она и ее новый муж вернулись в Атланту после завершения поисков близняшек. Они не присутствовали на поминальной службе.
– Она могла обвинить отца в том, что произошло, – вставил Джек.
Уайрман кивнул.
– А может, просто не могла оставаться на Дьюме.
Я вспомнили надутое личико (я-хочу-быть-где-то-еще) Адрианы на семейном портрете и подумал, что в словах Уайрмана что-то есть.
– В любом случае, – продолжил Уайрман, – она наверняка мертва. Если б еще жила, то готовилась бы отметить столетний юбилей. Вероятность этого крайне мала.
«где наша сестра?»
Уайрман сжал мою руку, развернул меня к себе. Его лицо осунулось, постарело.
– Мучачо, если что-то сверхъестественное убило мисс Истлейк с тем, чтобы заткнуть ей рот, может, нам следует понять намек и удрать с Дьюма-Ки?
– Я думаю, уже поздно, – ответил я.
– Почему?
– Потому что она снова проснулась. Так сказала Элизабет перед смертью.
– Кто проснулся?
– Персе, – ответил я.
– Кто это?
– Не знаю. – Я пожал плечами. – Но, думаю, нам предстоит утопить ее, чтобы она снова заснула.
IX
При покупке корзинка для пикника была алой и лишь немного выцвела за свою долгую жизнь, возможно, потому, что большую часть времени простояла на чердаке. Я приподнял ее за одну ручку. Действительно, весила корзинка немало – по моим прикидкам, фунтов двадцать. Прутья на дне, хоть и были прежде плотно сплетенными, слегка продавились. Я поставил корзинку на ковер, развел деревянные ручки в стороны, откинул крышку. Петли едва слышно скрипнули.
Сверху лежали цветные карандаши, от большинства остались короткие огрызки. А под ними – рисунки, сделанные вундеркиндом более восьмидесяти лет тому назад. Маленькой девочкой, которая в возрасте двух лет упала с запряженного пони возка, ударилась головой и очнулась с припадками и магической способностью рисовать. Я это знал, пусть даже рисунок на первом листе и не был рисунком в полном смысле этого слова. Действительно, ну какой это рисунок:
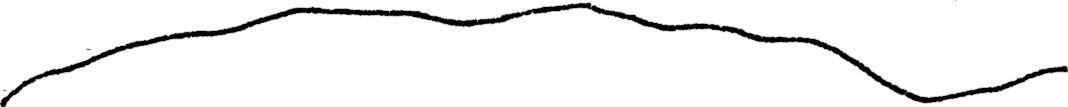
Я поднял листок. Под ним увидел вот это:

А дальше рисунки стали рисунками, прибавляя в сложности и мастерстве с невероятной быстротой. Поверить, что такое возможно, мог разве что Эдгар Фримантл, который рисовал лишь завитушки до того, как несчастный случай на стройплощадке лишил его руки, размозжил голову и едва не отправил на тот свет.
Она рисовала поля. Пальмы. Берег. Огромное черное лицо, круглое, как баскетбольный мяч, с улыбающимся красным ртом (вероятно, лицо Мельды – домоправительницы), хотя эта Мель-да больше напоминала ребенока-переростка на снимке, сделанном с очень близкого расстояния. Потом пошли животные: еноты, черепаха, олень, рысь – нормальных пропорций, но идущие по Заливу или летающие по воздуху. Я нашел цаплю, нарисованную с мельчайшими подробностями, которая стояла на ограждении балкона дома, где выросла девочка. Под этим рисунком лежала акварель той же птицы, только теперь цапля летела над плавательным бассейном вверх ногами. И глаза-буравчики, которые смотрели с рисунка, были того же цвета, что и сам бассейн. «Она делала то же, что и я, – мелькнула мысль, и по коже опять побежали мурашки. – Пыталась заново открыть ординарное, сделать его новым, превратить в грезу».
Дарио, Джимми и Элис кончили бы в штаны, если б увидели эти картины? Думаю, сомнений в этом нет и быть не может.
Она нарисовала двух девочек (конечно же, Тесси и Лауру), с широченными улыбками, старательно растянутыми, уходящими за пределы лица.
Она нарисовала папулю – выше дома, рядом с которым он стоял (наверняка первым «Гнездом цапли»), с сигарой размером с ракету. И дым окольцовывал луну над его головой.
Она нарисовала двух девочек в темно-зеленых свитерах на проселочной дороге. На головах они несли книги, как африканские девушки носят кувшины с водой. Несомненно, Марию и Ханну. Позади них шли лягушки. Отрицая законы перспективы, с удалением от девочек они увеличивались, а не уменьшались.
Потом в творчестве Элизабет начался период «Улыбающихся Лошадей». Этих рисунков набралось более десятка. Я быстро их пролистал, потом вернулся к одному, постучал по нему пальцем.
– Тот самый рисунок из газетной статьи.
– Копни глубже, – откликнулся Уайрман. – Ты еще ничего не видел.
Снова лошади… члены семьи, нарисованные карандашами, углем или веселенькими акварельными красками, всегда держащие друг друга за руки, как вырезанные из бумаги куклы… потом ураган, вода – волнами выплескивающаяся из бассейна, кроны пальм, которые рвал ветер.
Всего рисунков было далеко за сотню. Хоть Элизабет и была ребенком, но она фонтанировала. Еще два или три рисунка урагана… может, той «Элис», что отрыл сокровища, может, урагана вообще, точно не скажешь… Залив… еще Залив, на этот раз с летающими рыбами размером с дельфинов… Залив с пеликанами – и радуга в каждом раскрытом клюве… Залив на закате дня… и…
Я замер, горло перехватило.
В сравнении со многими другими рисунками, просмотренными мной, этот поражал простотой: силуэт корабля на фоне умирающего света, пойманный в тот самый момент, когда день сменяется ночью, но эта простота наполняла рисунок могуществом. И, конечно же, я так и подумал, когда нарисовал то же самое в мой первый вечер, проведенный в «Розовой громаде». Здесь был тот же трос, натянутый между носом корабля и, как, возможно, говорили в те далекие времена, башней Маркони[166], создающий ярко-оранжевый треугольник. И свет, поднимаясь над водой, менялся точно так же: от оранжевого к синему. Я увидел даже наложение цветов, отчего корабль (поменьше, чем у меня) выглядел как далекий призрак, ползущий на север.
– Я это рисовал, – выдохнул я.
– Знаю, – кивнул Уайрман. – Я видел. Ты назвал этот рисунок «Здрасьте».
Я зарылся глубже, доставая акварели и карандашные рисунки, зная, что в конце концов найду. И – да, у самого дна я добрался до картины, на которой Элизабет первый раз изобразила «Персе». Только она нарисовала корабль новехоньким – изящную трехмачтовую красоту с убранными парусами на сине-зеленой воде Залива под фирменным солнцем Элизабет Истлейк, выстреливающим длинными, счастливыми лучами. Это была прекрасная работа, на которую следовало смотреть под мелодию калипсо.
Но в отличие от других картин Элизабет в этой чувствовалась фальшь.
– Смотри дальше, мучачо.
Корабль… корабль… семья – не вся, только четверо, стоят на берегу, держась за руки, как бумажные куклы, все со счастливыми элизабетовскими улыбками… корабль… дом, перед ним – стоящий на голове черный парковый жокей[167]… корабль – белоснежное великолепие… Джон Истлейк…
Джон Истлейк кричит… кровь хлещет из носа и одного глаза…
Я, как зачарованный, уставился на эту картину. Акварель ребенка, выполненную с дьявольским мастерством. Изображенный на ней мужчина обезумел от ужаса, горя, или от того и другого.
– Господи, – выдохнул я.
– Еще одна картина, мучачо, – услышал я Уайрмана. – Только одна.
Я поднял картину с кричащим мужчиной. Лист с высохшими акварельными красками затрещал, как кости. Под кричащим отцом лежал корабль, и это был мой корабль. Мой «Персе». Элизабет нарисовала его в ночи, и не кисточкой – я видел отпечатки детских пальчиков в разводах серого и черного. На этот раз ее взгляд пробил маскировочную завесу «Персе». Доски потрескались, паруса провисли и зияли дырами. Вокруг корабля, синие в свете луны, которая не улыбалась и не выстреливала счастливые лучи, из воды торчали сотни рук скелетов. И руки эти, с которых капала вода, салютовали стоящему на юте бесформенному бледному существу – вроде бы женщине, одетой в какую-то рванину, то ли широкий плащ, то ли саван… то ли мантию. И это была красная мантия, моя красная мантия, но нарисованная спереди. Три пустых глазницы зияли в голове, ухмылка растянулась шире лица в безумном смешении губ и зубов. Этот рисунок был куда страшнее моих картин «Девочка и корабль», потому что Элизабет разом докопалась до самой сути, не дожидаясь, пока разум осмыслит увиденное. «Это и есть жуть, – говорил рисунок. – Это и есть жуть, которую мы боимся найти затаившейся в ночи. Смотрите, как она ухмыляется под светом луны. Смотрите, как утопшие приветствуют ее».
– Господи, – повторил я и повернулся к Уайрману. – Как думаешь, когда? После того, как ее сестры?..
– Наверняка. Наверняка таким способом она пыталась справиться с трагедией, или ты не согласен?
– Не знаю. – Какая-то моя часть пыталась подумать об Илзе и Мелинде, другая, наоборот, старалась о них не думать. – Не знаю, как ребенок… любой ребенок… мог такое создать.
– Память рода, – ответил Уайрман. – Так бы сказали юнгианцы.
– А как я нарисовал этот же самый гребаный корабль? Может даже, и это самое существо, но только со спины? Есть у юнгианцев какие-то теории на этот счет?
– Элизабет не назвала свой корабль «Персе», – заметил Джек.
– Ей же было всего четыре года. Сомневаюсь, чтобы название что-то для нее значило. – Я подумал о ее более ранних картинах, на которых кораблю удавалось прятаться за белой красотой. – Особенно когда она наконец-то увидела, какой он на самом деле.
– Ты говоришь так, словно корабль реальный, – заметил Уайрман.
Во рту у меня пересохло. Я пошел в ванную, набрал стакан воды, выпил.
– Не знаю, верю я в это или нет, но у меня есть главное житейское правило, Уайрман. Если один человек что-то видит, это, возможно, галлюцинация. Если видят двое, то шансы на то, что это реальность, возрастают многократно. Элизабет видела «Персе», и я его тоже видел.
– В вашем воображении, – напомнил Уайрман. – Вы видели его в вашем воображении.
Я наставил палец на лицо Уайрмана.
– Ты знаешь, на что способно мое воображение.
Он не ответил – только кивнул. И сильно побледнел.
Вмешался Джек:
– Вы сказали: «Однажды она увидела, какой он на самом деле». Если корабль на этой картине реальный, тогда что он такое?
– Думаю, ты знаешь, – ответил ему Уайрман. – Думаю, мы все знаем; этого чертовски трудно не понять. Просто боимся сказать вслух. Давай, Джек. Бог ненавидит труса.
– Ладно, это корабль мертвых, – бесстрастно прозвучал голос Джека в моей чистой, ярко освещенной студии. Он поднял руки, медленно прошелся пальцами по волосам, отчего они взъерошились еще сильнее. – Но вот что я вам скажу. Если именно это приплывет за мной в конце жизни, я бы предпочел вообще не рождаться.
Х
Толстую стопку рисунков и акварелей я отодвинул в сторону, довольный тем, что более не вижу двух последних. Потом посмотрел на то, что тяжелым грузом лежало под рисунками.
Боезапас пистолета для подводной охоты. Я достал один из гарпунов. Длиной около пятнадцати дюймов, довольно тяжелый. С древком из стали, не алюминия (я не знаю, использовался ли алюминий в начале двадцатого века). На рабочем конце к острию сходились три лезвия – потускневших, но выглядевших острыми. Я коснулся одного пальцем, и на коже тут же появилась крошечная капелька крови.
– Вам нужно его продезинфицировать, – встревожился Джек.
– Да, конечно, – ответил я. Поднял гарпун, повернулся к послеполуденному солнцу. Блики забегали по стенам. Короткий гарпун обладал устрашающей красотой. Такое определение приберегают исключительно для эффективного оружия. – В воде он далеко не полетит. Слишком тяжелый.
– Как бы не так, – возразил Уайрман. – Гарпун выстреливается пружиной и сжатым углекислым газом из баллончика. Так что начальная скорость приличная. И в те времена дальность не требовалась. Залив кишел рыбой, даже вблизи берега. Когда Истлейк хотел кого-нибудь подстрелить, он обычно это делал в упор.
– Меня удивляют эти наконечники.
– Меня тоже, – кивнул Уайрман. – В «Эль Паласио» с десяток гарпунов, считая те четыре, что на стене в библиотеке, но таких там нет.
Джек вернулся из ванной, принес пузырек перекиси водорода. Взял гарпун, который я держал в руке, присмотрелся к наконечнику с тремя лезвиями.
– Что это? Серебро?
Уайрман соорудил из большого и указательного пальца пистолет и направил на Джека.
– Карты можешь не показывать, но Уайрман думает, что ты сорвал банк.
– А вы этого не поняли? – спросил Джек.
Мы с Уайрманом переглянулись, вновь повернулись к Джеку.
– Вы, похоже, смотрите не те фильмы, – пояснил он. – Серебряными пулями пользуются, когда нужно убить оборотня. Я не знаю, эффективно ли серебро против вампиров, но, очевидно, кто-то думал, что да. Или надеялся, что окажется эффективным.
– Если ты предполагаешь, что Тесси и Лаура Истлейк – вампиры, – заметил Уайрман, – то жажда мучила их с тысяча девятьсот двадцать седьмого года, так что теперь им чертовски хочется пить. – И он посмотрел на меня, рассчитывая на поддержку.
– Думаю, в словах Джека что-то есть. – Я взял пузырек с перекисью, заткнул горлышко пораненной подушечкой пальца, несколько раз встряхнул пузырек.
– Мужской закон[168], – поморщился Джек.
– Нет, если, конечно, ты не собираешься это пить, – ответил я, и через мгновение мы с Джеком расхохотались.
– Что? – спросил Уайрман. – Я не понял.
– Не важно. – Джек все улыбался. Потом лицо его стало серьезным. – Но ведь вампиров не существует, Эдгар. Могут быть призраки, с этим я соглашусь – думаю, большинство верит, что призраки могут быть – но не вампиры! – Тут он просиял, словно в голову пришла блестящая мысль. – Кроме того, только вампир может сделать человека вампиром. А близняшки Истлейк утонули.
Я вновь поднял короткий гарпун, покрутил в руке, блики от потускневшего наконечника расцветили стену.
– И все-таки он наводит на размышления.
– Действительно, – согласился Джек.
– Как и незапертая дверь, которую ты обнаружил, когда принес корзинку для пикника, – добавил я. – Следы. Холст, который сняли со стойки и поставили на мольберт.
– Ты говоришь, что без безумного библиотекаря все-таки не обошлось, амиго?
– Нет. Просто… – Мой голос дрогнул, сорвался. И я смог продолжить лишь после еще одного глотка воды: – Возможно, вампиры – не единственные, кто может вернуться из мира мертвых.
– О ком вы говорите? – спросил Джек. – О зомби?
Я подумал о «Персе» и гниющих парусах.
– Скажем так – о дезертирах.
XI
– Эдгар, ты уверен, что этим вечером хочешь остаться здесь один? – спросил Уайрман. – Потому что, по моему разумению, эта идея не из лучших. Особенно если компанию тебе составят все эти рисунки. – Он вздохнул. – Ты сумел напугать Уайрмана по полной программе.
Мы сидели во «флоридской комнате», наблюдая, как солнце начинает долгий, пологий спуск к горизонту. Я принес сыр и крекеры.
– Я уверен, что иначе ничего не получится. Воспринимай меня как снайпера, разящего кистью или карандашом. Я рисую в одиночку, дружище.
Джек смотрел на меня поверх стакана с чаем.
– И что вы собираетесь нарисовать?
– Ну… набросок. Я знаю, как это делается. – И, вернувшись мыслями к одной паре садовых рукавиц (с надписью «РУКИ» на одной и «ПРОЧЬ» – на другой), я подумал, что наброска вполне хватит, особенно если сделать его цветными карандашами Элизабет Истлейк.
Я развернулся к Уайрману:
– Вечером у тебя снят зал в похоронном бюро?
Уайрман посмотрел на часы, тяжело вздохнул.
– Совершенно верно. С шести и до восьми. И завтра с ней будут прощаться с двенадцати до двух. Родственники приедут издалека, чтобы точить зубы на наглого узурпатора. То есть на меня. Потом завершающий аккорд, послезавтра. Похоронная служба в Унитарианской вселенской церкви в Оспри. В десять утра. Далее кремация в «Эббот-Уэкслер». Гори, гори ясно, чтобы не погасло.
У Джека перекосило лицо.
– Это без меня.
Уайрман кивнул.
– Смерть ужасна, сынок. Помнишь, как мы пели в детстве? «Червь заползает, червь выползает, гной вытекает, как мыльная пена».
– Класс, – вставил я.
– Это точно, – согласился Уайрман. Взял крекер, пристально его осмотрел, потом так сильно бросил на поднос, что крекер, отскочив, упал на пол. – Безумие какое-то. Вся эта история.
Джек поднял крекер, уже собрался съесть, потом все-таки отложил в сторону. Возможно, решил, что есть крекеры, поднятые с пола «флоридской комнаты», – нарушение другого мужского закона. Возможно, так оно и было. Мужских законов хватало.
– Когда этим вечером будешь возвращаться из похоронного бюро, загляни сюда и проверь, как я, хорошо? – попросил я Уайрмана.
– Да.
– Если я скажу тебе, что все в порядке, ты просто поедешь домой.
– Чтобы не мешать тебе общаться с твоей музой. Или с духами.
Я кивнул, потому что он не очень-то грешил против истины. Потом я повернулся к Джеку:
– И ты останешься в «Эль Паласио», пока Уайрман будет в похоронном бюро, так?
– Конечно, раз уж вы этого хотите. – Джеку наше предложение не нравилось, и я его понимал. Это был большой дом, Элизабет жила там долго, и память о ней никуда оттуда не делась. Я бы тоже нервничал, если бы не знал наверняка, что на Дьюма-Ки призраки обитают совсем в другом месте.
– Если я позвоню, ты тут же примчишься.
– Обязательно. Позвоните или по телефону в доме, или на мой мобильник.
– Ты уверен, что он работает?
Он смутился.
– Аккумулятор сел, только и всего. Я зарядил его в автомобиле.
– Мне бы хотелось получше понять, почему ты лезешь во все это, Эдгар, – сказал Уайрман.
– Потому что точка не поставлена. Долгие годы она стояла. Долгие годы Элизабет жила здесь очень спокойно – сначала с отцом, потом одна. Занималась благотворительностью, общалась с друзьями, играла в теннис, играла в бридж – так говорила мне Мэри Айр, – но прежде всего активно участвовала в художественной жизни Солнечного берега. Это была спокойная, достойная жизнь для пожилой женщины, у которой много денег и практически нет плохих привычек, за исключением курения. Потом ситуация начала меняться. La loteria. Твои слова, Уайрман.
– Ты действительно думаешь, что за этими изменениями что-то стоит? – В его голосе недоверия не слышалось, скорее, благоговейный трепет.
– Ты сам в это веришь, – ответил я.
– Иногда – да. Но я не хочу в это верить. Это что-то может дотянуться так далеко… и зрение у него достаточно острое, чтобы разглядеть тебя… меня… еще бог знает кого или что…
– Мне тоже не нравится это что-то, – но тут я лгал. Это что-то я ненавидел. – Мне не нравится версия, будто что-то действительно вылезло из своего тайного убежища и убило Элизабет – может, испугало до смерти, чтобы заставить ее замолчать.
– И ты надеешься с помощью этих рисунков выяснить, что происходит?
– В какой-то степени – да. Как много, сказать не могу, пока не попытаюсь.
– А потом?
– Поживем – увидим. Но наверняка придется побывать на южной оконечности Дьюмы. Есть там одно незаконченное дельце.
Джек поставил стакан из-под чая.
– Какое незаконченное дельце?
Я покачал головой.
– Не знаю. Возможно, эти рисунки мне подскажут.
– Надеюсь, ты не собираешься зайти слишком далеко и обнаружить, что не можешь вернуться на берег? – спросил Уайрман. – Именно такое случилось с теми двумя маленькими девочками.
– Я об этом помню.
Джек нацелил на меня палец.
– Берегите себя. Мужской закон.
Я кивнул, повторил его жест.
– Мужской закон.
| Назад | Оглавление | Далее |